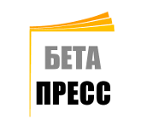пресс Общество Политика Регионы Интервью Экономика За рубежом СССР Техно Культура Литература новости карта ссылки Реклама:
Псой Короленко: Страшные знаки Ганса Зиверса
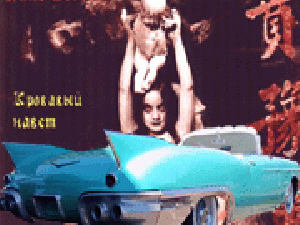
|
6 февраля 2010, 16:34 | |
|
Версия для печати Добавить в закладки |
Название "Кровавый навет" придумал . Так он советовал мне окрестить мою группу "Нечеловеческая музыка". Мы никому об этом не рассказывали - только . И вот год спустя после этого разговора, совместно с "Арктогеей" выпускает пластинку новых - "хорошо забытых старых" - песен печального эзотерического шансонье Ганса Зиверса. Вкладыш оформлен под готику. На картинке написано ?.. Магия, как всегда.
мне известен по Studia Сorolenсiana: либеральная русская пресса 1910-х годов называла так обвинение в ритуальных детоубийствах. Сакраментальный мотив умерщвленья младенцев присутствует в нескольких песнях Зиверса, но там он вплетен в абсолютно иные контексты. К тому же в своем субтильно-виртуальном пред-бытии альбом имеет другое имя - "Флаконы лжи" (сборник песен в real audio). Я долго не понимал смысл обоих названий и связь между ними. Во всем этом ощущалась какая-то литературная загадка.
Загадочным было и имя - Ганс Зиверс. Разгадка, кажется, связана не только с готикой Эверса (в альбоме есть песня "Эверс" о стране фей), но и с "Немецким обществом по изучению древней германской истории и наследия предков", известным как Ahnenerbe. Основателем этого института был прототипический Meister aus Deutschland - ученый и философ типа Фауста, черепослов и искатель Атлантиды . В 1939-м "Аненербе" перешло в ведение СС, а его генеральным секретарем стал более жесткий "ганс" - Зиверс. По себе знаю: исторический псевдоним - это всегда развернутая метафора. Гибрид Ганса Эверса с властным наследником Вирта означает преемственность воина и мудреца, Кшатрия и Брахмана, идею интеграции во власть как необходимой ступени на пути осуществления гигантского духовного суперпроекта.
Как сообщает вкладыш, песни Зиверса 1981-1984 годов были записаны на "любительской аудиотехнике" в 1986-м и выпущены теперь как "дань истории московского творческого underground'а конца 1970-х - начала 1980-х годов". Время, действительно, важное. В 1980 году умер Высоцкий. Этой смертью - да и самим творчеством "таганского барда" - ознаменован кризис русской авторской песни, постепенная утрата ею первоначальной заявки на выражение некоей глубинной экстремальной сути. В этом качестве теперь начинает выступать русский "рок", точнее омузыкаленная рок-поэзия: музыка была не экстремальна и меньше "рок", чем Юрий Антонов. В этой ситуации обязательно должны были появиться пограничные между роком и авторской песней/шансоном проекты. И они появлялись.
Появился Щербаков, чтоб дать авторской песне второе дыхание за счет усиления в ней культурки, за каковые попытки технари, которых не проведешь, объявили его чуть ли не "филологом". Аллюзии на тревожные темы западной литературы и версификационная эквилибристика в длинных песнях-картинках и песнях-рассуждениях - общий путь Щербакова и Зиверса, в этом они союзники. Только первый бормочет все то же, "человеческое, слишком человеческое", второй же метафизичен, "по ту сторону добра и зла". От чистой "авторской песни" он движется к року. Уже в русском смысле слова.
Появился Хвостенко, стремившийся, как и Зиверс, трансцендировать формы авторской песни и рока в некоем европейско-русском меташансоне. По Вербицкому, Зиверс относится к Южинскому , то есть к одной из главных московских ветвей андеграундно-самиздатского континуума конца 70-х - начала 80-х, или, как его называли, "подполья". Хвостенко тоже входит в эту орбиту. Его инфернальная Орландина, найденная в Сарагосе, флейта и пасмурный день, бесстрашные куплетцы о Страшном Суде, бесконечные босхианские полуживотные и насекомые, мистика Водки-реки, евразийские степи Льва Гумилева и Хлебникова - это все уже очень "горячо", ближе к теме нашего разговора. Теперь этот, по выражению Шиша Брянского, "хитрый культурный дедушка", через работу с "АукцЫоном" влился в рок, но сам рок понемногу утрачивает роль экстремального андеграунда и готовится уступить место еще почти не проявленной "новой песенности". Вот когда актуальной покажется встреча с "младоюжинским" бардом.
У Ганса Зиверса есть, как говорят французы, прэзанс. Нездешний шарм в голосе. Разнообразие ритмико-метрических фигур на гитаре (блюз, боссанова, свинг, умца-умца, вальс, рок-н-ролл) и странные мелодии, аккорды, как бы случайные, а на самом деле тщательно выверенные. В текстах метафизическое беспокойство cum grano salis: тут и "семя страшной [в женском роде - П.К.] сатаны", и "красный вампир-р-р" с энергичным гитарным па-ба-ба-бамом, и даже "волшебный сэкс // с овчаркой по кличке Рэкс". В песнях много серьезных литературных аллюзий, но они не превращаются для автора в самоцель. С кем бы из 90-х сравнить его? Может быть, с ? Они очень разные, но и , как Зиверс, по-пушкински обрабатывает предшественников, рождает новое и остается многие годы не записанным и известным под своим бардовским именем только для узкого круга.
Зиверс представляет самостоятельный путь синтеза бард- и рок-песни с одновременной ее интеграцией в высокий европейский контекст. Сам этот контекст открыто заявлен как больше, чем "литературный": скорее уж философско-мистический, эзотерический. Интонации мэтров авторской песни аккуратно учтены и слегка травестированы, например по-высоцки надрывная хрипотца и затягиванье сонорных ("...злой аккор-р-рд") в открывающем альбом "Астароте", в "Агасфере" и других песнях, но поэзия, конечно, ровнее, литературнее, чем у Высоцкого, за того нам бывает стыдно все-таки иногда. В "старом магистре" иронически забалтывается как бы Окуджава ("давайте-давайте, давайте-давайте..."), в "Москве-1982" вкрадчиво-обличительная интонация Галича вдруг переходит в отчаянный крик "иного" Высоцкого, не "поэта-и-гражданина", а ницшеанского человекобога: "Но я здесь буду король, // Но я здесь буду монарх, // Я выпью эту боль // В белых своих руках". Далеко уходит Ганс Зиверс от привычной балладовости тех, высоцких, к амбиентному духу другой баллады, "готической". В этой алхимической возгонке наследия мэйнстримных русских бардов кристаллизуется та эзотерика их жанра, которая если и была у них где-то, то бессознательно.
Cчитывать рок-контексты особенно любопытно. Прослушайте третью песню альбома - "В советском подвале...". "...В теченье недели, в теченье недели // Он ловит большую форэль, // А вечером в девять, небесные девы // С ним радостно делят постель. // В застегнутом фраке, в застегнутом фраке // Торжественно пьет он кефир, // И лают собаки, и пятятся раки // Во мраке советских квартир". Не правда ли, где-то мы слышали такой вот четырехстопный амфибрахий-вальсок, и даже отдельные кончики четверостиший? Так вот, "Треугольник" вышел в 1981 году. И вот, покамест "сползает по крыше..." один инфернальный старикашка, чтобы завтра сдохнуть, как собака, другой, "черный, как кот", танцует в советском подвале с книжкой в руке (веселый обман ожидания "в руках его вальтер... Скотт", таящий в себе метафору "книга=оружие"), а потом умирает, но на самом деле не умирает - "и смотрит печально в окно, // и смотрит тревожно в окно". Этот старый Магистр (по-видимому, подразумевается кое-кто из магов Южинского подполья, их было там предостаточно) - реальный антитезис долженствующему замоченным быть в сортире старику Козлодоеву. Много лет спустя Дугин предложит Курехину нарезать классный кат-ап: мол, не перемешать ли старые "романтические" песни БэГэ с его же нынешними самодовольными гуруанскими телегами? И Курехин ответит: "Не поймут".
Следующим треком идет "Пубертатная революция": отвязная чистяковщинка в голосе до "Ноля", агрессивно пририфмованная к поллюциям "Революция" до "Гражданской обороны", мамоновский хаос и сюр с abacdede-строфой до петиных метафизических "триста минут сэ-эк-са" и "..завелось та-ко-е" (хочется по старинке крикнуть: "отец родной"). Действительно, в русском роке много писалось о том, как ребят не по-детски колбасит. Но не всегда за этим "человеческим, слишком человеческим", колбашением так явственно была видна тонкая, субтильная реальность Инициации. Предположительная реальная цепочка, связывающая Мамонова с Зиверсом - .
Формат авторской песни не только расширяется Зиверсом в сторону рока, но и углубляется в сторону реальных ее корней. В русском контексте это отчасти романсы (с той лишь поправкой, что их исполняли не авторы), а еще в большей степени Вертинский, чью стилизованно-декадентскую образность развивали, каждый по-своему, и Гребень, и Хвост, и Щерба. Или даже не Вертинский, а Северянин, с ником, похожим на "сладкое слово Nord" и с "эго-футуризмом" абсолютно суверенным, как "ур-реализм" Зиверса и Штернберга. Дэкадэнтская кокэтливая "элэгантная коляска" Игоря Северянина (та, что в элэктрическом биэньи эластично шэлэстэла) доведена у Зиверса до самого немыслимого метафизического порога. "О романтический нарцысс... // О эонический нацызм... // зрачки запрэтных орхидэй // Его зовут в эфирный сэкс", "О эротический каприз...", "О эйфорический цынизм...". "Изнеженно-нэфритовый фашыст...". "Пэрвэртные духи, меха мадам Тюдор, // Стерильный блеск токсических планэт...". "Стер-рвятник параноидальных сфэр-р, Слепой бэрилл-л дэлириумных стэлл-л...". Короче, "с бутонов нераскрывшихся нарцыссов // Слетало дэкадэнтское Ништо".
Европейский исток АП, не всегда ей самою осознаваемый, - это французский шансон, по крайней мере в его наиболее продвинутых версиях. Не случайно один прозрачно намекал на Вийона, другой постоянно ездил в Париж и пел с оркестром Поля Мориа, а какой-нибудь там Суханов перекладывал на музыку какого-нибудь там Верлена. У Хвоста, с его наивно-макабрическим русским вийонством ("Ах, зачем я был повешен, Бо-оже, // Cам не знаю как подвешен, Бо-оже, // Cам не знаю как привешен"), с брассансовскими Trompetes de la Renome, переведенными более вольно, чем у Фрейдкина, с народным Нантским узником, французский след выглядит сильнее отрефлектированным, осознавшим свою связь с высокой поэзией, с Бодлером-Верленом-Рембо. Французский мир важен и для Зиверса, который пристально и беспокойно вглядывается туда, где "... плакал Нотр-Дам // па-а вам, па-а вам, маадам...". Во многих его песнях откровенно господствует смешенье языков: "Ах, Элэн, ах, Элэн, // у э та роб де матэн?", "Тебя ждет твоя вуаль, тебя ждет та виль наталь...". Какой-то "непроявленный" французский шансон распознается во многих интонациях Зиверса. Но не тот, типа , даже не глум и кощун Брассанс, и не Брель, нет, не софт. Вернее всего - это дух иных, тогда еще потаенных исполнителей. .
И вот мы с вами по этому ложному французскому следу выруливаем прямехонько на иные, забытые тропы. И едем по этим тропам, и слушаем как поет Ганс Зиверс с очаровательными куртуазно-авантажными интонациями Андрея Миронова:
В прекрасном утреннем настроеньи
В небесно-голубом кадиллаке
Мы едем по дорогам Европы,
Где так прекрасен утренний свет.
Небесно-голубые фашисты
Приветствуют нас правой рукою,
Ты даришь им лукавые взгляды
И радостно смеешься в ответ.
Небесно-голубые фашисты
В небесно-голубом кадиллаке,
На их повязках страшные знаки,
А в руках огромные коты
(Кадиллак).
"Мы едем по дорогам Европы..." - Европы сокровенной, потаенной, эзотерической. В лапах быка-Юпитера, которому все позволено, ей снятся страшные сны. Про что они? Про партию с Астаротом в "тарок" - "на вселенные и миры". Про фею "Аннабель" в "волшебном замке Мальдорор": "... и посиневший детский труп // Баюкает она...". Про сакраментальные игры на , где "ца-арство партэ-э-эногэнэ-э-эза". Про то, как "любовался Вашим белым телом // Висящий в темноте хрустальный глаз". Про непорочное зачатье от дьявола. Про структуры алхимической мысли. Про небесно-голубой кадиллак, красный лимузин, черный вальтер, оранжевых и розовых врагов, малинового человечка, про страну фиолетовых фей и про пурпурный цвет, который ищет красивая дама в саду Гесперид. Про трагического "нефритового фашиста", которого ждет ночь длинных ножей. Про "воспаленно-томный шелк" актрисы-француженки, на которую идут "дивизии СА". Про черную сарацинку и белую розу. Про инфернальные трипы с хищной Матерью или с птицей Гарпией. Про маркиза де Сада, у которого "...поцелуи из ада, // слаще сладкого яда" и у которого "ваши дети кричат по ночам одно слово: не надо". Про беззубую старушку Европу, она же крошка Элен, доигравшаяся в свои инфантильно-инфернальные игры. "До свиданья, Элен, // Будет вечен твой плен // В хороводе волков и гиен-н-н... // Будут крышки гробов, // Будет скрежет зубов, // И тягучая де-етская кро-овь...".
Вам страшно? Вам неприятно? Вам скучно? Вам хочется отшатнуться: "Фашисты, наветы какие-то... Оно нам надо?" Дорогие гуманитарии, протрите очки. Перечитайте конспекты, которые делали в университете. Это же ваша "история европейской литературы", любимая зарубежка, n'est-ce pas? Только, может быть, раньше вы не обращали внимания, что у нее внутри.
На голубой браслет
Капала тишина.
Мне подарил violette
Мастер злого сна.
Мне подарил violette
Парадоксальных грез,
Ласковый, как ответ
На самый страшный вопрос.
Я очень долго спал
Cреди старинных книг,
И по ночам качал
Le berceau metaphysique.
Я очень долго шел
В трансцендентальных снах,
И наконец расцвел
Violette на моих губах.
Violette - неоновый свет,
Шепот умерших господ,
Violette - пурпурный бред,
В тайнах зеркальных вод
(Violette).
Наша Европа. Она всегда рвалась туда, к "тайнам зеркальных вод". И сейчас немножечко еще рвется. Те же Фуко, Батай - не просто "постмодернисты". Они духовидцы, медиумы, трансцендентные метаполитики. Америка уже отказалась от всего этого, а Европа еще тоскует. И тут возникает догадка: а вдруг это даже и не Европа вовсе, а ее воплощенное подсознанье - Россия?
России в этих песнях почти что нет. Только есть магистр в советском подвале, мельком - милиционер, дядя Ваня и бедная Лиза из школьной программы в "Пубертатной революции". Еще потусторонняя Москва-1982 в одноименной песне и какие-то очень смутные тени Евразии в "Золушке". Русский язык лишь поверхность, прозрачная скорлупа: ноуменальный Ганс Зиверс поет не по-русски. Он поет по-всеевропейски, на языке "проклятых поэтов", Лотреамона, Батая, Серрано, Эволы, Майринка, Эверса, Кроули и странствующего по Европе инкогнито безумного Эдгара По. На метаязыке традиции - не случайно манифестированном как русский: именно есть "всеевропеец" и будущее Европы, именно в нем исполнение фиолетовых и сиреневых снов ее.
Где же он, что сейчас делает? Будут ли новые песни?
Хочу еще Ганса Зиверса!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Все новости... |